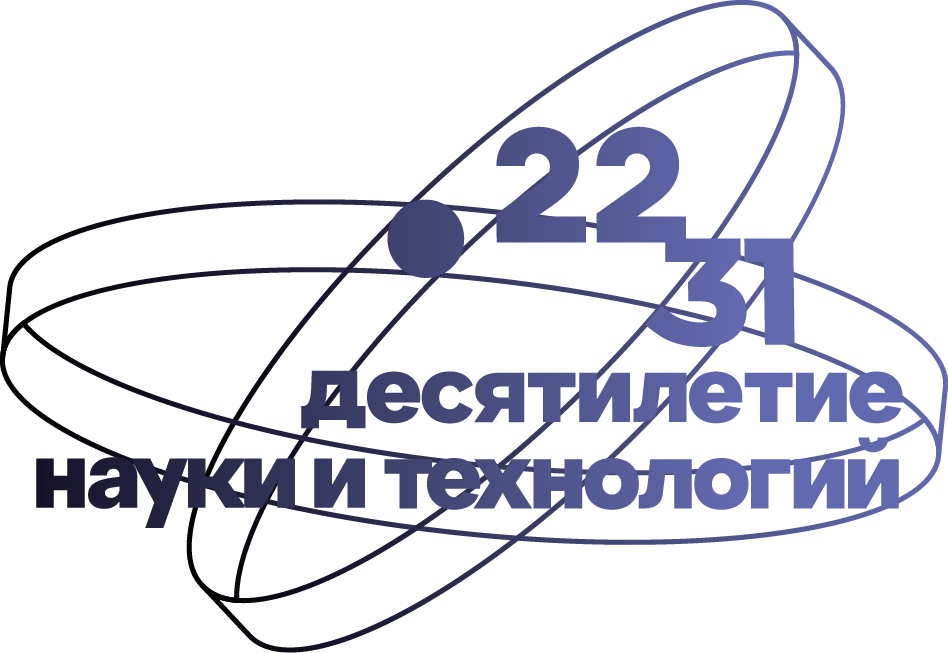«Разберём на атомы»: Принцип актуализма, опыт чтения и зеттабайты информации

Научно-популярное ток-шоу Информационного центра по атомной энергии «Разберём на атомы» вечером 24 ноября в седьмой раз прошло в кабаре-кафе «Бродячая собака». Гости обсудили память — с точки зрения геологии, литературоведения и цифровых технологий.
«Организаторы ток-шоу, пригласив меня, обратились по адресу. Никто так не заботится о памяти, как геологи. Многие думают, что геологи ищут то, что никто никогда не терял. На самом же деле, они вспоминают то, чего никто никогда не забывал или забыл настолько хорошо, что дальше некуда», — заявил доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН Сергей Смирнов.
По его словам, если представить, что Земля образовалась неделю назад, то до момента, когда на ней что-то в принципе начало происходить, прошло шесть с половиной суток. Геологи могут оперировать понятиями в пределах полудня. «Динозавры вымерли около трех часов назад, человечество появилось на свет четыре с половиной минуты назад, а жизнь одного индивидуума можно приблизительно оценить в одну сотую секунды».
Сергей Смирнов напомнил, что в компьютере данные хранятся в виде нулей и единиц и с помощью программных кодов «возрождаются» в неких образах. «Мы можем определить память как образы прошлого, выраженные в наших воспоминаниях. Представим, что эти образы были заложены в память несколько сотен миллионов лет назад в виде минералов, окаменелостей, горных пород. Как в компьютер попала информация, мы понимаем и, по большому счету, знаем, что туда положено и что мы хотим оттуда взять. Тот, кто заложил элементы памяти в горные породы, мне неизвестен. Ни одного человека в тот момент на Земле не было, понятным мне языком данные никто не записал, и нужно найти способ их расшифровать. Так вот, то, что находится в горных породах, называется геологической летописью, а механизм расшифрования — это и есть фундаментальные основы геологии».
Одной из этих основ является принцип актуализма. Суть его в следующем: если сегодня геологический процесс протекает определенным образом, то и миллионы лет назад всё происходило так же. Находя окаменелую ракушку, ученый сравнивает ее с похожим на аммонита моллюском nautilius pompilius и приходит к выводу, что древнее животное имело такое же строение раковины. «Используя знания о том, что есть сейчас, мы можем дешифровать геологическую летопись». Если минерал содержит железо, он «запоминает», как были расположены линии магнитных полей Земли, когда он «родился», продолжил приводить примеры геолог. «Зная возраст горной породы, можно установить, где тогда был Северный полюс, и «вспомнить», как выглядела планета 152 миллиона лет назад».
Память о прошлом позволяет нам понимать суть вещей и явлений, подчеркнул Смирнов. «Люди боятся экологических катастроф. И правильно делают. Но человечество, как мы помним, существует четыре минуты. Семь-восемь часов назад при этом почти 90% живых организмов на планете вымерли. Произошел мощный всплеск вулканизма, поверхность современной Сибири оказалась полностью залита лавой, и животный мир практически прекратил свое существование. Чтобы потом развиваться снова. Или 65 миллионов лет назад — вымерли все крупные динозавры. Ну и что, жизнь прекратилась? Мы возникли уже после этого. На самом деле, геологи — это самые позитивные люди на планете. Они понимают: «Ну да, человечество исчезнет. Но возникнет новый вид. Не исключено, что будет разумным». Знание о том, что было миллионы лет назад, позволяет нам спокойнее относиться к настоящему и с уверенностью смотреть в будущее».
«Мне очень удобно начинать после слов геолога, — сказала кандидат филологических наук, руководитель образовательного проекта «Открытая кафедра» Наталья Ласкина, — потому что моя наука работает даже не с минутами, а с секундами. Мы изучаем очень небольшую зону человеческого опыта, зато она задевает очень многих: практически все сегодня умеют читать и когда-либо читали художественные тексты».
По словам Ласкиной, вопрос о том, как работает человеческая память, и вопрос о том, как люди облекают свой опыт в слова, — «это, по сути, один и тот же вопрос». Литература и есть искусство памяти, а любое повествование — «уже воспоминание, схватить в словах настоящий момент невозможно». «Даже если я начну сейчас комментировать каждое свое действие, всё равно будет зазор, дистанция. Чтобы о событии рассказали, оно должно уже закончиться. Значит, на самом деле я буду рассказывать не о событии и не о предмете, а о своем воспоминании об этом событии, о том, каким этот предмет был полсекунды назад».
Классическая литература, как правило, эту проблему маскировала, создавая иллюзию, что никакой дистанции нет, что всё происходит на наших глазах, и «рассказчику можно доверять». Но в прошлом веке появились другие способы повествования, другая литература. В качестве примера филолог привела книгу «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста — «самый известный роман, полностью посвященный памяти», повлиявший на всю историю искусства XX века, от кинематографа и живописи до комиксов и сериалов. «Автор книги «Пруст был нейрофизиологом» Джона Лерер считает, что писатели-модернисты поставили вопросы, которые наука еще не начала ставить, и начали искать на них ответы раньше, чем это начали делать ученые. Это вопросы о том, как устроено субъективное восприятие, как описать личный опыт, о том, как можно иметь дело, в частности, с памятью».
Марсель Пруст описал несколько механизмов работы памяти. По сути, весь его роман — о том, как конкурируют между собой способы вспоминать жизнь. Классический («я решил вспомнить, как что-то произошло, и рассказать») сталкивается с таким, когда «рассказчик сам ничего не решает, он не хочет что-то вспоминать, но ему невольно это вспоминается». Выясняется, что все самые яркие и интересные события нельзя вспомнить по собственной воле, «память произвольная и осознанная — не настоящая». Кроме того, в романе Пруста встречаются коллективная память и даже ложная — когда ты начинаешь фантазировать и уже сам принимаешь выдумку за подлинное воспоминание. Филолог продемонстрировала сложность прустовского текста, отметив в одном предложении разными цветами разные способы выражения воспоминаний — своих, чужих, непроизвольных, ложных и так далее.
В завершение Наталья Ласкина рассказала о современном иранском художнике Сепанде Данеше, который много лет работает над произведением «Тень памяти». Данеш берет «В поисках утраченного времени» и между строчек повторяет их же от руки, переписывает роман Пруста, тем самым воплощая опыт чтения. «Чья память в таком случае воплощена в этих строках? — спросила у зала лектор. — Память вымышленного рассказчика романа? Память самого Пруста? Память бумаги, на которой напечатаны слова? Или же память художника, который своей рукой записывает то, что прямо сейчас читает?» Концептуальное творение иранского художника говорит и о том, чем является память для искусства. «Любой опыт чтения, знакомства с искусством, опыт переживания встречи с красотой, со странным и сложным — всегда одновременно оказывается опытом памяти и размышления о том, как память устроена», — заключила Ласкина.
«Давайте зададимся вопросом, что такое память для нас? Зачем она нужна? Может, и без нее можно? Что будет, если памяти не будет?» — начал выступление с вопросов старший преподаватель кафедры общей информатики факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета, кандидат физико-математических наук Евгений Павловский. Он предложил относиться к памяти как к ключнику — «хранителю ключей, тому, который ведает хозяйством и знает, что где лежит».
Павловский отметил, что для всех видов цифровой памяти можно подобрать соответствия в «аналоговом» человеческом сознании. Кэш браузера? «В одно ухо влетело, в другое вылетело». Оперативная память? Кратковременная: сегодня прочитал новости, а завтра всё забыл. Жёсткий диск? Долговременная память, «знания, умения, навыки». Облачный сервис? «Вечная» память — впечатления из, например, мира детства, которые хранятся в нашем подсознании. Как и с чем соотносится в таком случае «искусственный интеллект»?
За последний год в мире информационных технологий произошло несколько революций, сообщил лектор. «Экспоненциальный взрыв цифровых данных» привел к тому, что общее количество оцифрованной информации измеряется в зеттабайтах (биллион гигабайтов): «Что с этим объемом данных делать, непонятно. Мы даже не пересматриваем свои фотографии. Вспомните, когда вы делали это последний раз? Может быть, одну-две смотрели. Из тысячи сделанных». Нейронные сети научились распознавать стили известных художников и обрабатывать фотографии, делая из них «картины» Ван Гога или Пикассо, почти не отличимые от подлинников. «Сегодня здесь было сказано, что автор при создании произведения искусства воспроизводит не то, что было, а свои впечатления. Получается, машина имеет какие-то собственные впечатления. Фантастика, по-моему».
«Когда я сейчас ехал сюда по девятибалльным пробкам, я мог положиться на свою память и выбрать оптимальный маршрут. Но я нечасто в город езжу, поэтому память мне в этом не очень бы помогла. Я спросил Яндекс, как мне ехать, и он меня повез из Академгородка через Ключ-Камышенское плато. А я даже не знал, что так можно, — признался Евгений Павловский. — Сегодня достаточно хранить в памяти ключ, слово или пару слов. Я не помню адрес «Бродячей собаки», ввожу название в Яндекс.Навигатор, и он находит мне дорогу. Всё, своя память мне не нужна. Приложение Google Now напоминает о том, что сегодня ток-шоу, и с учетом пробок пишет, что «надо выезжать». Почтовый сервис Gmail анализирует содержание сообщения на английском языке и сразу предлагает три варианта ответа. Я могу даже не читать письмо, представляете?»
По словам Павловского, скоро мы будем запоминать только «уникальные впечатления», помещая всё остальное в хранилище данных. «Есть такое понятие «сигнал/шум» — это отношение мощности полезного сигнала к мощности общего шума. Данных становится настолько много, что человек не способен их все обработать и воспринять действительно полезную информацию. В связи с этим возрастет спрос на data scientist’ов, «ключников», которые помогут разобраться в «шуме» и извлечь реальную пользу». Сегодня, когда всё есть в интернете, незачем тратить на зубрёжку время и силы. «Сам процесс запоминания болезненный, потому что в мозгу образуются новые нейронные связи, и мозг испытывает от этого дискомфорт». Отчасти поэтому в будущем люди захотят и научатся встраивать себе компьютерные чипы: «Мысленный запрос в Google — и всё, готово, получил ответ. Возможно, в связи с этим возникнет и противоположное направление — люди, которые откажутся от кремния, от всех этих информационных технологий, в пользу развития своих собственных способностей, вплоть до телекинеза».
Искусственный интеллект будет развиваться в самых различных областях, предупредил Евгений Павловский. Математики уже начали заменять собой врачей: «Неспециалисты в медицине придумывают алгоритмы, которые успешно диагностируют болезни». Человек уже освободил мозг от кучи обязанностей, «телефонные номера мы уже не запоминаем», и скоро будет готов освободиться от рецептурных знаний. «Убираем врача, берем готовый алгоритм и лечим больного. Если что-то можно сделать по алгоритму и это статистически проверяется, всё, человек там не нужен. Но это страшно, на самом деле. Какая роль потом будет у нас?» Сам Павловский отвечает на этот вопрос так: чтобы не позволить машинам захватить нас и управлять нашими воспоминаниями, нужно не давать им всех ключей. Зрители увлечённо задавали всем спикерам интересные вопросы, лучшие из которых были отмечены призами от книжного магазина «Перемен», постоянного партнера ток-шоу «Разберем на атомы».